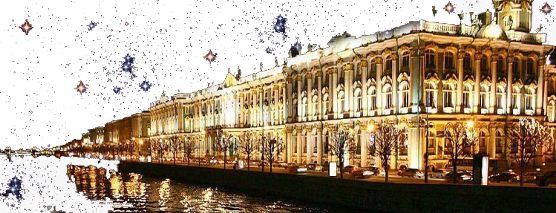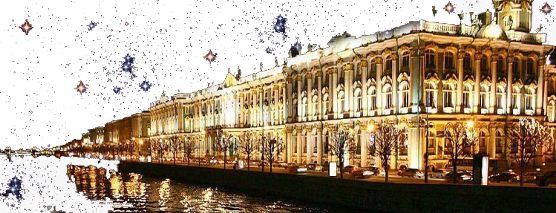ВИДЕНИЕ ОТРОКУ ВАРФОЛОМЕЮ
Михаил Нестеров Избрав в искусстве путь «поэтизированного реализма», Михаил Васильевич Нестеров создавал картины-гимны, картины-песни, а «людей духовного подвига» всегда писал особенно любовно. Каждая картина художника становилась событием в искусстве, вокруг его произведений разгорались споры самых горячих его поклонников и не менее страстных противников. Так было и с картиной «Видение отроку Варфоломею». М.В. Нестеров, как и Ф.М. Достоевский, верил, что для России спасение «из народа выйдет, из веры и смирения его», и на своих полотнах стремился утвердить реальный нравственный идеал, в поисках которого часто обращался к прошлому России. И нашел этот идеал в Сергии Радонежском — основателе Троице-Сергиева монастыря, в миру носившем имя Варфоломея. М.В. Нестеров посвятил Сергию целую серию работ, начало же ей положила картина «Видение отроку Варфоломею». Сергий для художника — не схимник, не подвижник, а исторический деятель — «игумен земли русской». Его деяния М.В Нестеров изучал не по житиям, а по хроникам да по летописям, поэтому в нестеровских отшельниках и святых нет и тени покаяния и молитвенного экстаза, да и живут они не в закопченной келье, а среди великой русской Природы. Сам художник так говорил об этом: «Я не писал и не хотел писать историю в красках. Я писал жизнь хорошего русского человека XIV века, чуткого к природе и ее красоте, по-своему любившего родину и по-своему стремившегося к правде. Я передаю легенду, сложенную в давние годы родным моим народом о людях, которых он отметил любовью и памятью». Одна из таких легенд и легла в основу картины «Видение отроку Варфоломею». Когда Варфоломею исполнилось семь лет, родители отдали его учиться грамоте, однако наука эта тяжело давалась мальчику. Однажды отец послал его искать пропавших лошадей. Долго бродил Варфоломей по лугу, устал и только хотел присесть у дуба, как вдруг увидел благообразного старца-схимника. Мальчик попросил незнакомого старца указать ему путь к учению и получил его благословение. После молитвы схимника Варфоломей «начал стихословети зело добре стройне, и от того часа горазд бысть зело грамоте». Эта сцена, когда перед очами мистически настроенного отрока появляется фигура благословляющего его святого старца, поразила М.В. Нестерова силой своего настроения. В воображении его, хотя еще и в смутном образе, тотчас нарисовался этот мальчик с бледным лицом и нездешними, неземными глазами. И рядом с ним призрачная темная фигура схимника, вдруг отделившаяся от такого же темного ствола большого дуба. Во время пребывания М.В. Нестерова под Троицей, а затем у Мамонтовых в их уютном Абрамцеве, картина начала приобретать все более определенные очертания, и художник принялся за этюды к ней. Пейзаж нашелся довольно быстро. Это была опушка одного из абрамцевских перелесков, и сначала М.В. Нестеров написал с нее обыкновенный этюд. Натура для головы отрока тоже нашлась довольно быстро. Ею стала больная чахоткой девочка, глазки которой смотрели из глубины орбит именно тем уже неземным взглядом, который часто бывает у смертельно больных детей. Над воплощением своего замысла художник работал с большим воодушевлением и в то же время с большой требовательностью к себе, проверял на натуре не только основные образы, но и каждую деталь картины. Например, М.В. Нестеров до самых точнейших подробностей разработал этюд дуба, около которого стоит схимник. Уже в этюде была прекрасно передана мощь векового дерева, могучий ствол которого не могли сломать никакие бури и грозы. От времени его кора только потемнела и выглядела как надежная броня дерева-великана. И на этом же стволе — нежные зеленые листочки, а у подножия дуба — молодая рябинка с краснеющими листьями, рядом — склоненные травы и былинки. Такие же этюды М.В. Нестеров выполнил и для других деталей картины. На одном из них Варфоломей, например, стоял сначала перед старцем спиной к зрителю. Лица его не было видно, а вся фигура со светловолосой головой и нарядная одежда скорее напоминали образ сказочного пастушка Леля, а не будущего подвижника. В дальнейшем М.В. Нестеров переносит главный акцент на фигуру маленького Варфоломея, которая и стала впоследствии смысловым центром всей картины. На фоне лесов и полей на переднем плане картины стоят две фигуры — мальчика и явившегося ему под деревом святого в одежде схимника. Юный отрок весь застыл в трепетном восторге, широко открытые глаза его не отрываясь смотрят на видение. «Чарующий ужас сверхъестественного, — писал А. Бенуа, — редко был передан в живописи с такой простотой и убедительностью. Есть что-то очень тонко угаданное, очень верно найденное в фигуре чернеца, точно в усталости прислонившегося к дереву и совершенно закрывшегося своей мрачной схимой. Но самое чудное в этой картине — пейзаж, донельзя простой, серый, даже тусклый и все-таки торжественно-праздничный. Кажется, точно воздух заволочен густым воскресным благовестом, точно над этой долиной струится дивное пасхальное пение». В «Видении отроку Варфоломею» удивительно сильно передано умиленное молитвенное настроение мальчика. Не только его худенькая фигурка и восторженно устремленные на схимника глаза были полны молитвы; молился и весь пейзаж, преображенный рукой мастера в стройную гармонию красок. Картина раскрывала самые глубокие, интимные тайники души; не тоску и не думу изображала она, а скорее радость сбывшейся мечты. Картина «Видение отроку Варфоломею» появилась на Десятой выставке художников-передвижников и сразу же произвела на публику ошеломляющее впечатление: у одних вызвала искреннее негодование, у других — полное недоумение, у третьих — восторг. Все в картине было наполнено тем трепетным умилением, которое М.В. Нестеров хотел вложить в душу грезящего отрока Варфоломея, и это очень сильно действовало на зрителя. Более всего публику поражала именно необычная трактовка самого сюжета, поражали стиль картины и соответствующая ему живопись. Критик того времени Дедлов писал тогда: «Картина была иконою, на ней было изображено видение, да еще с сиянием вокруг головы, — общее мнение забраковало картину за ее «ненатуральность». Конечно, видения не ходят по улицам, но из этого не следует, что никто никогда их не видел. Весь вопрос в том, может ли его видеть нарисованный на картине мальчик». Однако публику волновало не само видение, а (как это ни странно) золотой венчик вокруг головы явившегося отроку святого. Золотой венчик святого и даже само отсутствие у него лица, невидимого за краем схимы, придавали его реальной фигуре волнующую душу призрачность. Но зрители задавались вопросом, допустимо ли это золото в картине, которая вся должна быть написана красками? Не низводится ли художественная картина до церковного образа, который тогда никому не представлялся истинным художественным произведением? Допустимо ли уважающему себя художнику писать такое? «Видение отроку Варфоломею» действительно вызвало много споров. «Страшным судом» судили это полотно некоторые передвижники (Н.Н. Ге, и некоторые др.), называли картину вредной. Г. Г. Мясоедов на открывшейся выставке отвел М.В. Нестерова в сторону и всячески пытался убедить, чтобы тот закрасил этот золотой венчик: «Поймите, ведь это же абсурд, бессмыслица, даже с точки зрения простой перспективы. Допустим на минуту, что вокруг головы святого сияет золотой круг. Но ведь вы видите его вокруг лица, повернутого к вам en face? Как же можете вы видеть таким же кругом, когда это лицо повернется к вам в профиль? Венчик тогда тоже будет виден в профиль, то есть в виде вертикальной золотой линии, пересекающей лицо. А вы рисуете его вокруг профиля таким же кругом, как вокруг лица». М.В. Нестерову трудно было ответить на это, да подобные замечания его мало трогали. А вот впечатление и шум, который поднялся вокруг картины, заострили мысль художника на личности этого отрока и ее дальнейших переживаниях.
|
ТРОИЦКИЙ АРХИМАНДРИТ ДИОНИСИЙ И КЕЛАРЬ АВРАМИЙ ПАЛИЦЫН В городе Ржеве жил некто по имени Федор с женою Иулиа-ниею и сыном Давидом. Из Ржева он перешел в Старицу, и был там старостою в ямской слободе. Он отдал своего единственного сына учиться грамоте у монахов, как обыкновенно делалось. Давид оказался очень способным, любил чтение и был посвящен в попы в одном из сел Старицкого Богородицкого монастыря. Через шесть лет Давид лишился жены, оставившей ему двух сыновей и, по обычаю того времени, постригся в монахи в том же Богородицком монастыре, под именем Дионисия. Он был еще молод, чрезвычайно красив и статен, глаза его блистали постоянною веселостью, спокойствием и добротою, русая окладистая борода его спускалась до пояса. Он обладал звучным, прекрасным голосом, хорошо пел, с чувством читал на богослужении и увлекательно говорил. Рассказывают, что однажды он поехал из своего монастыря в Москву и рассматривал книги в книжном ряду. Кто-то стал подшучивать над ним, делая намеки на то, что подобный монах-красавец едва ли способен удержаться от соблазнов плоти. Слышавшие эту выходку напустились на шутника, назвали его невежею, но Дионисий сказал ему: "Ты прав, брат, если бы я был хороший монах, то не шатался бы по торжищам, а сидел бы в келье". Насмешнику стало стыдно, и он просил прощения у Дионисия. Через несколько времени Дионисий был поставлен архимандритом в том же монастыре, пробыл в этом сане около двух лет и бывал часто в Москве; здесь он сошелся с патриархом Гермогеном, который полюбил его. Оба они были совершенно противоположны по характеру: Гермоген - вечно суровый, сердитый, всем недовольный, подозрительный, тяжелый в обращении с людьми, Дионисий - всегда спокойный, кроткий, благодушный. Но оба сходились между собою потому, что как тот, так и другой одинаково были прямодушны, честны, благочестивы, одинаково любили отечество. Во все продолжение осады Москвы тушинцами, Дионисий пробыл в столице и вместе с Гермогеном выходил для увещания народа, возмущавшегося против царя Василия. В 1610 году, уже после того, как шайки Сапеги и Лисовского отступили от Троицкого монастыря, скончался троицкий архимандрит Иосаф, и в июле, за несколько недель до падения Шуйского, Дионисий возведен был в звание троицкого архимандрита. С этих пор началась его высокая, доблестная деятельность как христианина, так и гражданина. Наступило то ужасное время, которое русский народ в своей памяти прозвал "лихолетьем". Бесчисленное множество народа страдало и погибало от зверства польских и казацких шаек. Толпы русских людей обоего пола, нагие, босые, измученные, бежали к Троицкой обители. "Некоторые, - говорит очевидец, - были все испечены огнем; у иных вырваны на голове волосы; множество калек валялось по дорогам, у иных были вырезаны полосы кожи на спине, у других отсечены руки и ноги, у кого были следы обжогов на теле от распаленных камней". Архимандрит Дионисий посылал подбирать их по окрестностям, привозить в монастырь и лечить. Для этой цели он приказал построить больницы, странноприимные дома как в самом монастыре, так и в монастырских селах (в Служней и в селе Клементьеве). Монахи и служки по его приказанию беспрестанно ездили по окрестностям, подвергаясь сами смерти от разбойников, привозили раненых и голодных. Дионисий всех приказывал кормить, поить, лечить, давать им одежду и обувь, а женщины беспрерывно мыли и шили им белье. Кроме того, собирали мертвых, привозили их и предавали христианскому погребению. "Я помню, - говорит один из участников, Иван ключарь, - как в один день похоронили 860 человек в Клементьеве селе, кроме других мест, а по смете в течение тридцати недель погребли более 3000; случалось по десяти и пятнадцати трупов зарывали в одну могилу". Дионисий решился употребить на доброе дело всю монастырскую казну, все, что давали туда вкладчики на поминование своих душ. "От осады большой Бог избавил нас, - говорил он, - а за леность и скупость может хуже еще смирить. Видим все, что Москва в осаде, а литовские люди рассыпались по земле, что у нас ни есть хлеба ржаного и пшеницы и квасов в погребе, - все отдадим раненым людям, а сами будем есть хлеб овсяной; и без кваса, с одной водой не умрем". Сам Дионисий за всем смотрел, наблюдал, чтобы у людей, которым давали приют, был мягкий хлеб и свежая пища, сам осматривал больных, давал лекарство, причащал умирающих, ни день ни ночь не зная покоя. Этого мало, он заботился о том, чтобы русский народ не оставлял борьбы с врагами, посадил у себя в келье писцов и приказывал им переписывать списки с грамот, которые беспрестанно рассылал с гонцами по всем городам, возбуждал ратных людей к мужеству, стыдил за леность и беспрестанно служил молебны о спасении отечества. Еще летом, когда жив был Ляпунов, Дионисий рассылал грамоты в Казань, Новгород, Вологду, Пермь и другие города, убеждал посылать к Москве ратных людей и доставлять казну. Когда уже Ляпунова не стало, в ополчении под Москвою господствовали казаки. Дионисий вместе с келарем Аврамием от 6 октября 1611 года отправил по разным городам новую грамоту. Желая соединить все силы русской земли, троицкие власти не стали раздражать казаков, и потому не поминали об убийстве Ляпунова и с похвалою отзывались о Трубецком и Заруцком за то, что они стояли под Москвой против поляков и русских изменников. Вся вражда обращена была на последних. Русские призывали действовать заодно с казаками. "Видите, - писалось в этой грамоте, - что приходит нам конечная погибель. Все разорено, поругано, бесчисленное множество народа в городах и селах кончили жизнь под лютыми, горькими муками. Нет пощады ни сединам многолетних старцев, ни сосущим молоко младенцам. Сжальтесь над нашею погибелью, чтобы и вас самих не постигла лютая смерть. Бога ради, пусть весь народ положит подвиг страданья, чтоб всем православным людям быть в соединении, а вы, служилые люди, поспешайте без малейшего замедления к Москве в сход, к боярам и воеводам и ко всему множеству христианского народа. Сами знаете, что всякому делу есть свое время, а безвременное начинание бывает суетно и бездельно. Если между вами есть и будут недоволы (что-нибудь неладное), Бога ради, отложите это до времени, чтоб нам всем заодно положить свой подвиг и пострадать для избавления христианской православной веры. Если мы прибегнем к прещедрому Богу, и пречистой Богородице, и ко всем святым и обещаемся сообща сотворить наш подвиг, то милостивый владыка, человеколюбец, отвратит праведный свой гнев и избавит нас от лютой смерти и латинского порабощения". Это воззвание ободряло народный дух, падавший под гнетом ужасных бедствий. В посылке воззваний участником Дионисия является также келарь Аврамий Палицын, имя которого вместе с именем Дионисия ставилось в этих грамотах. Он происходил из знатного рода малорусских выходцев, прибывших в Москву в XIV веке и принявших фамилию Палицыных от одного своего предка, прозванного Палицею. В конце XVI века он вступил в монашество; а во время осады Лавры Сапегою носил важное звание келаря - заведующего монастырскими делами. Он в это время не находился в монастыре, жил в Москве на Троицком подворье и во время скудости, происшедшей от осады, пустил в продажу по заниженной цене запасы хлеба, находившиеся в столице, впрочем, воспользовавшись этим и в свою пользу. Царь Василий утвердил за ним спорную вотчину его двоюродного брата, хотя, собственно, по соборным постановлениям в подобных случаях ему, как монаху, следовало получить из казны вместо вотчины деньги, а не саму вотчину. По низвержении Шуйского келарь Аврамий был послан под Смоленск одним из членов посольства. Когда поляки стали притеснять это посольство, подозревая его в соумышлении с Ляпуновым, некоторые дворяне, бывшие в посольстве, стали выходить из него. Подобным образом поступил и Аврамий Палицын; он поклонился Сигизмунду, выпросил у него для своего монастыря грамоту на собирание пошлин с Конской Площадки в Москве и уехал в Москву. Этот поступок едва ли можно поставить ему в вину: он только показывает благоразумие. Аврамий предвидел, что послов за их упорство возьмут в неволю и отправят в Польшу, а потому рассудил заранее уехать, чтобы иметь возможность служить русскому делу. Во все время похода Пожарского и Минина к Москве, Дионисий и Аврамий писали к ним грамоты, торопили их идти скорее к столице, чтобы предупредить Ходкевича, который должен был привести свежие силы и запасы польскому гарнизону, остававшемуся в Кремле, а когда услыхали, что в Ярославле в русском ополчении происходят раздоры и беспорядки, то послали сначала жившего у Троицы на покое ростовского митрополита Кирилла, а потом отправился туда келарь Аврамий водворять согласие и убеждал Пожарского спешить скорее к Москве. Аврамий в своем рассказе о событиях этого времени порицает Пожарского за его медленность и неспособность удерживать в войске порядок. Двинувшись наконец к Москве, Пожарский 14 августа остановился под Троицею. Дионисий служил молебен, кропил войско святою водою, и Аврамий, вместе с Пожарским, отправился к Москве. Если верить рассказу самого Палицына, то он больше всего способствовал успехам казаков, убедивши и воодушевивши их своим красноречием. Впоследствии, во время пребывания русского ополчения под Москвою, несколько раз возобновлялись недоразумения между земскими людьми и казаками. Казаки требовали жалование. Келарь Аврамий отправился к Троице, и архимандрит Дионисий с братиею, не имея денег, послали казакам в виде залога богатые церковные одежды, но казаки, тронутые этим, не взяли такого залога и дали обет не отходить от Москвы прежде, чем ее не очистят от поляков. В феврале 1613 года под Москвою происходил выбор нового царя. Аврамий Палицын, вместе с другими духовными, был отправлен в посольстве для приглашения новоизбранного царя на престол. Смуты улегались. На престоле сидел избранный государь, но, по молодости и по недавности своей власти, находился под влиянием бояр. В это время был восстановлен был печатный двор (типография) в Москве и предпринято печатание церковного требника. Дело это поручено Дионисию. Ему дали для работ двух монахов Троицкого монастыря, Арсения и Антония, и священника Ивана из монастырского Клементьевского села. Царь выбрал этих людей потому, что им известно было книжное учение, грамматика и риторика. Рассматривая напечатанный прежде "Потребник" (требник), Дионисий заметил в нем неправильности, а равным образом нашел в старых рукописных экземплярах много ошибок, вкравшихся в них от невежества. Таким образом, в конце многих молитв встречались неправильные выражения, имевшие смысл смещения лиц Св. Троицы савелианской ереси. В молитве, читаемой при водоосвящении, "Прииди, Господи, и освяти воду сию Духом Твоим святым", прибавлялось "и огнем". Прибавка эта вошла во всеобщее употребление, а между тем она вкралась в требник единственно по невежеству. Дионисий приказал выбросить ее из новопечатаемого требника. Но в Троицком монастыре, как вообще в русских монастырях, между монахами господствовало невежество, а некоторые из них воображали себя при этом людьми учеными и пользовались уважением в среде своей братии. Такими были у Троицы головщик (управляющий пением в церкви) Ло-гин и уставщик Филарет. Дионисий был человек до чрезвычайности кроткий, а они отличались безмерным нахальством. Дионисий, глубоко проникнутый христианским чувством, видел бесплодность одного бессмысленного соблюдения обрядов и ввел чтение бесед евангельских и апостольских, некогда переведенных Максимом Греком и остававшихся без употребления. Дионисий приказывал их списывать и рассылал по другим монастырям и соборным церквам. Это до крайности не нравилось монахам; Логин и Филарет возбуждали против Дионисия братию и дерзко говорили ему: "Не твое это дело читать и петь: стоял бы ты, архимандрит, с твоим мотовилом на клиросе как болван немой". Дионисий переносил такие выходки. Логин и Филарет хвастались своим пением и умением читать, называли еретичеством "хитрость грамматическую и философство" и пускались в умствования самым нелепым образом. Так, опираясь на слова Св. Писания, что Бог сотворил человека по образу своему и подобию, они представляли себе Бога с членами человеческого тела. Дионисий должен был напрасно объяснять этим невеждам первичные понятия о том, что духовные предметы выражаются телесным образом. Обличая укоренившуюся привычку довольствоваться только формою и не внимать в смысл, Дионисий говорил им: "Что толку из этого, что ты поешь и читаешь сам, не разумея, что произносишь? Видишь ли, апостол Павел говорит: "Воспою языком, восхвалю же умом". Тот же апостол говорит: "Если не знаю силы слова, какая из того польза? Бых яко кимвал", т. е. все равно что бубен или колокол. Человек, не знающий смысла слова, которое произносит, похож на собаку, лающую на ветер; впрочем, и умная собака не лает напрасно, а подает лаяньем весть господину. Только безумный пес, слыша издалека шум ветра, лает всю ночь!" Надменные враги Дионисия возражали ему на это: "Пропали места святые от вас дураков, неученых сельских попов. Людей учите, а сами ничего не знаете". Наглость их наконец дошла до того, что однажды Логин вырвал у него в церкви книгу из рук; архимандрит махнул на него своим жезлом и сказал: "Перестань, Логин! Не мешай богослужению, не смущай братию". Но Логин вырвал у него из рук жезл и изломал. Так обращались эти нахалы со своим архимандритом, пользуясь его кротостию. Наконец, Логин и Филарет подали на Дионисия донос в Москву и обвиняли в ереси за то, что он выбросил из требника слово "и огнем". Патриарха в Москве еще не было. Главным духовным сановником был крутицкий митрополит Иона, грубый и корыстолюбивый невежда. Собрав вокруг себя таких же невежд, он стал рассуждать с ними; и нашли они, что Дионисий еретик, вооружили против него и мать царя Михаила, инокиню Марфу Ивановну, женщину набожную в старом смысле слова. Дионисий был призван в Москву и в Вознесенском монастыре в присутствии матери царя защищался от обвинений; но все было напрасно. Его признали еретиком, потребовали уплаты пятисот рублей пени. Но у Дионисия денег не было: он все растратил на дело спасения отечества. Его поставили на правеж в сенях, на патриаршем дворе, заковали, глумились над ним, плевали на него. Дионисий не только не падал духом, но смеялся и шутил с теми, кто ругался над ним. "Денег нет, - говорил он, - да и давать не за что. Эка беда, что расстричь хотят! Это значит не расстричь, а достричь. Грозят мне Сибирью, Соловками. Я не боюсь этого. Я тому и рад. Это мне и жизнь". Правеж продолжался несколько дней. За Дионисием посылали, приводили его пешком или привозили на кляче. В народе распространился слух, что явились такие еретики, которые хотят огонь из мира вывести. Раздражились против Дионисия особенно те, которые по роду своих занятий постоянно обращались с огнем, как например, разного рода мастера и повара. Когда Дионисия вели на правеж, они бежали за ним, ругались и кидались в него песком и грязью, а он, вместо того чтобы сердиться или унывать, смеялся над своим положением и острил над невеждами. Уважавшие его люди говорили: "Ах, какая над тобою беда, отче Дионисий!" - "Это не беда, - говорил им Дионисий, - это притча над бедою. Это милость на мне явилась: господин мой, первосвященный митрополит Иона паче всех человек творит мне добро". Раздражение против Дионисия усиливалось оттого, что в это время подступал к Москве Владислав, и в народе возникал страх, что Бог посылает свою кару за проявившуюся ересь. Не взявши ничего с Дионисия, его отправили в заточение в Кирилло-Белозерский монастырь, но не могли провезти его туда, потому что в это время Москву окружали неприятели. Дионисия засадили в Московский Новоспасский монастырь на покаяние. Но не долго приходилось страдать ему. Царь заключил перемирие с поляками в Деулине. Последовал размен пленных. Отец царя, митрополит Филарет, возвратился в отечество в июне 1619 года, а находившийся в это время иерусалимский патриарх Феофан посвятил его в сан московского патриарха. Филарет знал Дионисия и через семь дней после своего посвящения принялся разбирать его дело вместе с Феофаном. Голос восточного патриарха считался авторитетом на Руси в подобных вопросах. Феофан объявил, что Дионисий совершенно прав, что прибавка "и огнем" неупотребительна на Востоке. Дионисия воротили в Троицкий монастырь с честью. Во время заключения Дионисия в лавре оставался келарь Аврамий Палицын, вместе с воеводами, поставленными у Троицы, готовился отражать нападение Владислава на монастырь и принужден был сжечь монастырский посад. Со стен Троицкого монастыря встретили Владислава пушечные выстрелы. Королевич отступил и в трех верстах от Троицы, в селе Деулине, 1 декабря 1618 года, было заключено перемирие, после которого дело о размене пленных тянулось до половины июня 1619 года. Дальнейшая жизнь Дионисия по возвращении его в Троицкий монастырь не прошла, однако, без новых испытаний. Троицкие монахи не отличались благонравием, были корыстолюбивы, заводили тяжбы за земли и за людей. Дионисий не терпел этого, старался искоренить пороки, но был слишком кроток, прямодушен и гнушался всякою хитростью. Архимандрит вообще, по правилам, не имел в монастыре безусловной власти: все далалось с согласия келаря и братии; Дионисий строго уважал законный порядок, не употреблял никаких кривых мер для захвата власти и оттого был бессилен. Его ласковое, учтивое обращение развивало между монахами только наглость и непослушание. Русские люди того времени исполняли приказания властей только тогда, когда они внушали страх. Дионисий, если что приказывал монаху, говорил: "Сделай это, если хочешь, брат". Монах, выслушавши такого рода приказание, не исполнял сказанного и говорил: "Архимандрит мне на волю дал: хочу делаю, хочу нет". Какой-то эконом поссорил Дионисия и с Филаретом. Этот эконом выпросил без ведома архимандрита у Филарета право променять свою лесную пустопорожнюю землю на монастырскую вотчину и назвал монастырскую вотчину ненаселенною, тогда как она была жилая. Филарет согласился, если вотчина действительно окажется пустою. Но архимандрит, зная, что вотчина населена и если будет отдана эконому, то вместе с нею под власть эконома должны будут перейти поселенные в этой вотчине люди, воспротивился и хотел обличить обман. Эконом, испугавшись обличения, умолил архимандрита не начинать дело. Вслед за тем эконом через своих благоприятелей, сам оставшись в стороне, оклеветал Дионисия разными способами и, между прочим, бросил на него подозрение, будто бы Дионисий стал помышлять о патриаршестве. Филарет призывал Дионисия в Москву, держал его три дня в тюрьме, а потом отпустил. Этот эконом, злобствуя на Дионисия, однажды на одном монастырском соборе, при всей братии, ударил его по щеке. Дионисий не жаловался на него, но до самого царя дошла весть об оскорблениях, наносимых Дионисию. Царь приказал сделать обыск, но Дионисий, не желая, чтобы кто-нибудь пострадал из-за него, сам покрыл виновного. В 1633 году скончался Дионисий. Патриарх Филарет приказал привезти его тело в Москву, сам отпевал его и отправил назад в Лавру, где оно было предано земле 10 мая. О судьбе Аврамия Палицына известно то, что он умер в 1627 году, 13 сентября, проживши в Соловках семь лет. Из дел Соловецкого монастыря видно, что существовала царская грамота о его погребении, в которой он назван "присланным". Это выражение в старину употреблялось о сосланных и дает повод заключить, что келарь Аврамий попал в Соловецкий монастырь недобровольно. Самое существование грамоты о погребении указывает, что он находился под каким-то особым надзором . Должно быть, он подвергся опале, и так как отправка его в Соловецкий монастырь произошла вскоре после возведения Филарета на патриарший престол, то, вероятно, ссылка эта была делом Филарета, быть может припомнившего ему то время, когда он под Смоленском покинул посольство, поклонился Сигизмунду и, осыпанный милостями польского короля, вернулся в Москву. Келарь Аврамий оставил потомству повествование о событиях своего времени, посвятив большую часть его описанию осады Троицкого монастыря Сапегою и Лисовским. Сочинение это носит название "Сказание о осаде Троицкого-Сергиева монастыря от поляков и литвы, и о бывших потом в России мятежах". Это сочинение составляет один из важнейших русских источников о смутном времени, хотя имеет недостатки. Оно в высшей степени загромождено многословием и в некоторых местах заключает в себе известия сомнительной достоверности: это тем естественнее, что келарь Аврамий не был очевидцем осады монастыря и писал по слухам и преданиям. Кроме того, нельзя не заметить, что сочинитель выставляет на вид важность собственного участия в делах, в особенности во время освобождения Москвы, известия этого рода невольно внушают сомнение, хотя, с другой стороны, при настоящем положении науки, нельзя доказать их недостоверность.
|
ПРОГУЛКА ЗАКЛЮЧЕННЫХ
Винсент Ван Гог Год 1889-й начинался для Ван Гога печально. Еще в конце декабря 1888 года он пережил первый приступ душевной болезни, и, хотя вскоре сознание вернулось к нему, припадки стали повторяться. Это заставило художника добровольно отправиться в психиатрическую лечебницу Святого Павла, которая располагалась в бывшем августинском монастыре Сен-Реми неподалеку от Арля. Сопровождаемый аббатом Саллем Ван Гог прибыл в Сен-Реми в мае 1889 года. Директор больницы предоставил ему отдельную комнату, окно которой выходило на поля, замыкающиеся грядой Малых Альп. Тяжелая болезнь все чаще донимала Ван Гога, и в Сен-Реми он работал в заточении. Смотреть на мир художнику приходилось сквозь зарешеченное окно, откуда он видел один и тот же пейзаж: обнесенное стеной пшеничное поле, за ним редко разбросанные среди холмов домики, окруженные кипарисами и оливковыми рощицами. По утрам было видно, как над горными отрогами встает солнце. В распоряжении Ван Гога был и запущенный сад больницы с высокими соснами и кедрами, цветочными клумбами, фонтаном, каменными скамьями. Ему не всегда разрешали выходить и работать за пределами больницы, а если и разрешали, то обязательно в сопровождении надзирателя и на недалекое расстояние, где бы он мог вблизи писать то, что видел из окна. Это было совсем не похоже на привольную жизнь в Арле, когда художник свободно бродил и разъезжал по окрестностям, отыскивая новые мотивы для своих произведений. В сложившихся обстоятельствах Ван Гог даже был рад уединению и одиночеству в лечебнице, где ничто не мешало ему целиком отдаться живописанию. Только это поддерживало его связь с жизнью, свои главные упования художник возлагает именно на нее, с ее помощью надеялся изжить «страх перед жизнью», оставшийся после первого приступа болезни, тем более что уже через месяц жизни и работы в Сен-Реми его «отвращение к жизни несколько смягчилось». Ван Гог много и лихорадочно работает, и что ни картина — то шедевр. Однако заметно, что мир на его полотнах покачнулся и пришел в движение. Золотые хлебные поля, оливковые рощи, повозки, виноградники, крестьянские хижины, проселочные дороги как будто медленно и нехотя уплывали в какую-то лишь одному ему ведомую даль. Кажется, что художник хочет показать, как все сильнее и быстрее раскручивается вселенский смерч, который скоро унесет от него эти до слез любимые им пейзажи... Четыре древнейших мифологических символа, как отмечает искусствовед М. Д. Высоцкая, пронизывают все творчество Ван Гога. Излюбленные художником мотивы пути, дерева, солнца и дома были прочувствованы им до вневременного существования, что и позволило Ван Гогу воплотить в картинах свое особое представление о мире. В конце жизни художник оказывается внутри «дома», изображаемого им еще в более ранние годы. Изображение внутреннего пространства этого дома хорошо знакомо зрителям по таким его картинам, как «Вестибюль в Сен-Реми», «Арльский госпиталь», «Коридор в Сен-Реми» и знаменитое «Ночное кафе». Уже эти полотна были насыщены предчувствием ужаса перед надвигающимся безумием и приближающейся смертью и вместе с тем наполнены поисками выхода, попыткой уйти, вырваться из ставшего невыносимым «дома жизни». Так возникает в творчестве Ван Гога тема «дома, ставшего гробом», «дома» — как пути в смерть, противопоставленного дому-храму и оплоту жизни, который встречается в других его картинах. В 1880-е годы подчеркиваемая Ван Гогом форма дома-гроба имеет прямые аналогии с фольклорными текстами и даже с многочисленными иносказательными названиями «гроба»: «дом, домовина, вечный дом». В некоторых языковых традициях глагол «умирать» переводится как «ехать домой», завершив свой «жизненный путь». В эти годы художественная выразительность Ван Гога достигла болезненной остроты, и его полотна обретают некую неистовость, сочетающуюся с трагической безысходностью. В этом плане особенно важна картина «Прогулка заключенных», картина-вариация на тему «мертвого дома» — одно из самых личных и вместе с тем самых общечеловеческих по содержанию произведений, в котором художник стремился показать последний круг ада, где все уже погублено, раздавлено и сведено к тоскливому автоматизму. Будучи уже в Сен-Реми, Ван Гог просил брата Тео прислать ему гравюру «Каторга» Регаме, но, видимо, Тео не смог достать ее, и взамен Ван Гог скопировал гравюру «Острог» Г. Доре, которую тот сделал для иллюстрации книги Б. Жерральда «Лондон». На гравюре Г. Доре изображен шестиугольный двор Нью-Гейтской тюрьмы, в котором происходит так называемый «парад заключенных», когда преступников много раз проводят перед сыщиками, чтобы те могли хорошо запомнить их лица. Две птицы, парящие в верхней части гравюры, на границе света и тени, призваны подчеркнуть высоту тюремных стен. С некоторым преувеличением Г. Доре изображает самих заключенных: это весьма живописные типы злодеев с утрированно упругой походкой, вызывающим поведением, и в связи с этим на его гравюре важную роль приобретает поединок взглядов между стражей и узниками. Задачи иллюстратора заставили Г. Доре специально рассматривать тех и других вместе, как две разные группы «тюремных типов». Ван Гог всегда любил Г. Доре и серию эту хорошо знал. Его картина «Прогулка заключенных» почти буквально воспроизводит композицию Г. Доре, правда, это «почти» сделано «чуть-чуть иначе», и это «чуть-чуть» превращает гравюру в художественную картину. На полотне Ван Гога зритель видит совсем иное действие, которое у него происходит в прямоугольном, даже трапециевидном, дворе. Задняя стена этого двора стала гораздо уже, чем у Г. Доре, так что боковые стены стиснули человеческий круг. На дне этого каменного колодца бессмысленно и безвольно, как заведенные механизмы, бредут по замкнутому кругу люди. Их взбудораженные тени в беспорядке ложатся на плиты двора, и от этих теней камни словно начинают шевелиться, а окна, как живые, тупо взирают со стен. У Г. Доре каменные плиты пола и кирпичи стен вычерчены как по линейке; у Ван Гога геометричность исключена полностью. Штриховые мазки у него разнонаправлены, плиты каменного мешка даны разной величины, так что ощущается даже истоптанность, истертость, промятость и сырость пола, шероховатость кладки стен. На гравюре Г. Доре цвет отсутствует. В картине Ван Гога для глубокой мрачной тени на дне каменного колодца найдены холодные, синевато-зеленый, болотно-илистый, зелено-мыльный цвета — подлинные цвета безысходной тоски. Они зловеще густеют внизу и бледнеют наверху, на осклизлых кирпичных стенах, оттенясь бледно-ржавыми, рыжими и красноватыми пятнами. Солнечный свет не достает земли, лишь слегка золотит тюремные стены, а внизу все погружено в сине-зеленый мрак. В этом каменном мешке нет ни клочка земли, ни травинки, в нем не отражается ни один кусочек неба... Цветовая гамма полотна, несмотря на всю ее сдержанность и приглушенность, разработана Ван Гогом с большим разнообразием оттенков, противопоставлением и сближением тонов. Поэтому его «Прогулка заключенных» нисколько не напоминает раскрашенную гравюру, в картине доминирует живописное начало, как будто вся сцена изначально была увидена художником в живописном ключе. Странность, фантасмагоричность, роковая значительность этого абсолютно реального эпизода раскрыты Ван Гогом не только средствами освещения и колорита, выдержанного в голубоватых сумрачных тонах, но и при помощи техники раздельного мазка, которая всему полотну придает своеобразную «полосатость». «Прогулка заключенных» Ван Гога — одна из самых мрачных картин о том, что нет выхода из тупика, где жизнь подобна замкнутому кругу. Художник сделал свою картину глубоко исповедальным произведением. Широко известно, например, что центральный персонаж наделен автопортретными чертами. В письмах из Сен-Реми, хотя он отправился туда добровольно и был поражен необыкновенной заботой обитателей лечебницы друг о друге, Ван Гог часто называл себя узником и писал, что «заточение раздавило его». Это настроение отражено и в картине, хотя ее и не следует целиком связывать только с личным заточением Ван Гога. В правой части «Прогулки заключенных» изображен целый ряд обращенных к зрителю лиц, каждое из которых написано лишь несколькими мазками. Печально, даже как-то удивленно наклонил голову белокурый юноша; рядом с ним соседствует отвратительная, звероподобная физиономия человека, шествующего прямо на зрителя. Наклоненные головы, согнутые спины, тяжелые шаги... Движение их то нарастает, то замирает, но никогда не прекращается. За фигурами людей по земле скользят их тени — зыбкие, колеблющиеся, но неутомимо последовательные, подобные спицам вращающегося колеса. Ощущение безысходности кругового движения заключенных, не зависимого от их собственной воли, усиливается активной ролью «среды». В картине не только утрирована перспектива, здесь изгибаются даже очертания каменных плит, которыми вымощен двор тюрьмы; окна (особенно второе справа) вопреки всякой перспективе разворачиваются в сторону зрителя, тюремные стены словно дышат и в верхней части картины обретают самые неожиданные краски: глухие тона охры, нежный лимонно-желтоватый, розовый, салатовый, сапфировый... Среди фигур узников наиболее изменена и индивидуализирована центральная фигура на первом плане. Этот арестант не смотрит в затылок впереди идущему, а слегка отвернул голову в сторону. Он без шапки, у него рыжеватые волосы, бездействующие руки его тяжело повисли вдоль тела, походка волочащаяся... Придав этому персонажу автопортретные черты, Ван Гог сделал это откровеннее, чем в других своих картинах, в которых сходство одинокого путника с художником дается отчасти лишь намеком. В «Прогулке заключенных» — это он, сам художник, лишенный свободы, творчества, с обреченными на бездействие руками. Худшие опасения и предчувствия, которые Ван Гог старался подавлять и говорить о них поменьше, на этом полотне высказаны без слов. В центральном образе воплощены и представления Ван Гога о месте художника в современном ему обществе, которые владели им еще и до написания «Прогулки заключенных». В письме к Э. Бернару летом 1888 года он пишет из Арля: «До чего же убога наша собственная подлинная жизнь, жизнь художников, влачащих жалкое существование под изнурительным бременем трудового ремесла...» Как отмечает М.Д. Высоцкая, круговое движение жизни, замкнутой в каменном мешке и не освещаемой сияющим диском солнца, нарушено лишь одной слабой и трогательной попыткой побега — полетом двух порхающих бабочек. «Прогулка заключенных» и ее образно-смысловая схема столь проста и одновременно информативна, что одним из многочисленных вариантов их интерпретации может стать буддийский образ жизни-ловушки, бесконечный путь мучительных перевоплощений на пути к нирване. В отрывках из многих писем Ван Гога, как и в самом полотне (одной из самых экзистенциалистских работ художника), как раз и можно найти томительное разделение мира на «здесь» (внизу, на нашей планете) и «там» — вверху, где порхают бабочки.
|