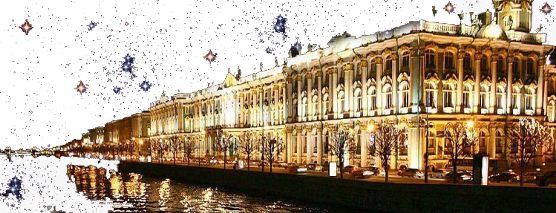 |
ХРИСТОС В ПУСТЫНЕ |
МАРИНА МНИШЕК  Женщина, в начале XVII века игравшая такую видную, но позорную роль в нашей истории, была жалким орудием той римско-католической пропаганды, которая, находясь в руках иезуитов, не останавливалась ни перед какими средствами для проведения заветной идеи подчинения восточной церкви папскому престолу. Мы уже говорили выше о нравственных качествах отца Марины, Юрия Мнишка. С наступлением господства иезуитов, овладевших польским королем Сигизмундом, Мнишек, прежде находившийся в дружеских связях с протестантскими панами, сделался горячим католиком, готов был отдать и себя, и свою семью на служение иезуитским целям, ожидая от этого выгод и возвышения для себя. Появление Димитрия подало ему удобный повод выказать себя вполне. Мы не знаем, до какой степени вначале названый Димитрий сам пленился красотою его дочери Марины и в какой степени должен был обязаться будущим браком с дочерью пана, который так горячо поддерживал его предприятие. Существует несколько романтических рассказов того времени о знакомстве Димитрия с Мариною, об его любовных объяснениях с нею, об ее гордости и кокетстве, с которым она разжигала страсть молодого человека, наконец, о поединке, который имел будто бы Димитрий с каким-то польским князем за прекрасную дочь Юрия: все это могли быть вымыслы, не имеющие для нас исторической достоверности. Марина была одна из нескольких дочерей Юрия Мнишка 1. Судя по старым портретам и современным описаниям, она была с красивыми чертами лица, черными волосами, небольшого роста. Глаза ее блистали отвагою, а тонкие сжатые губы и узкий подбородок придавали что-то сухое и хитрое всей физиономии. Мнишек свозил Димитрия в Варшаву, уверился в том, что и духовенство, и король благосклонно относятся к названому царевичу, и тогда взял с последнего запись на очень выгодных для себя условиях, о которых мы уже говорили. Названый Димитрий, именем Св. Троицы обещая жениться на панне Марине, наложил на себя проклятие в случае неисполнения этого обещания; кроме тех сумм, которые он обязывался выдать будущему тестю, он обещал еще, сверх всего, выслать своей невесте из московской казны для ее убранства и для ее обихода разные драгоценности и столовое серебро. Марине, будущей царице, предоставлялись во владение Новгород и Псков с тем, что сам царь не будет уже управлять этими землями, а в случае если царь не исполнит такого условия в течение года, Марине предоставлял право развестись с ним. Наконец, в этой записи, которою названый царевич так стеснял себя для своей будущей жены, было выразительно сказано и несколько раз повторено, также в числе условий брака, что царь будет промышлять всеми способами привести к подчинению римскому престолу свое Московское государство. Таким образом, будущая царица принимала в глазах католиков высокое, апостольское призвание. Мнишек советовал Димитрию держать свое намерение в тайне, пока не вступит на престол. Мнишек не доверял Сигизмунду и опасался, что король захочет отдать за Димитрия свою сестру. Сама Марина, как говорят, вела себя сдержанно и давала понять названому Димитрию, что она тогда только осчастливит его своею любовью, когда он добудет себе престол и тем сделается ее достойным. Димитрий сделался царем, но не тотчас обратился со своим сватовством. Прошло лето. Димитрий занимался делами и развлекался женщинами: это до известной степени заставляет подозревать, что Димитрий мог к обещанию, данному сендомирскому воеводе, отнестись так, как относился ко многим обещаниям, данным в Польше; быть может, он бы и не погиб, если бы нарушил это обещание. Не знаем вполне, что побуждало Димитрия исполнить его, но кажется, что Марина оставила впечатление в его сердце. В ноябре 1605 года дьяк Афанасий Власьев, отправленный послом в Польшу, заявил Сигизмунду о намерении своего государя сочетаться браком с Мариною в благодарность за те великие услуги и усердие, какие оказал ему сендомирский воевода. Во время обручения, 12 ноября, Власьев, представлявший лицо государя, удивил поляков своим простодушием и своими московскими приемами. Когда по обряду совершавший обручение кардинал Бернард Мациевский спросил его: не давал ли царь прежде кому-нибудь обещания, посол отвечал: "А почему я знаю? Он мне не говорил этого". Все присутствующие рассмеялись, а Власьев как будто для большей потехи прибавил: "Коли б кому обещал, то меня бы сюда не прислал". Благоговение его к будущей своей государыне было так велико, что он не решился надеть, как следовало, обручальное кольцо и прикоснуться обнаженной рукой до руки Марины. После обручения был обед, а потом бал. "Марина, - говорит один из очевидцев, - была дивно хороша и прелестна в этот вечер в короне из драгоценных камней, расположенных в виде цветов". Московские люди и поляки равно любовались ее стройным станом, быстрыми изящными движениями и роскошными черными волосами, рассыпанными по белому серебристому платью, усыпанному каменьями и жемчугом. Посол не танцевал с нею, говоря, что он не достоин прикоснуться к своей государыне. Но после танцев этого посла поразила неприятная для московского человека сцена. Мнишек подвел дочь к королю, приказал кланяться в ноги и благодарить короля за великие его благодеяния; а король проговорил ей поучение о том, чтоб она не забывала, что родилась в польском королевстве и любила бы обычаи польские. Власьев тогда же заметил канцлеру Сапеге, что это оскорбительно для достоинства русского государя. Димитрий отправил через своего секретаря Бучинского к сендомирскому воеводе требование, клонившееся к тому, чтобы его будущая супруга, по крайней мере наружно, соблюдала религиозные приемы, обычные в Московском государстве, дабы не вводить в соблазн русских, а именно: чтоб она причащалась в русской церкви и соблюдала ее уставы, оказывала всякое почтение греческому богослужению, не ходила бы после замужества с открытыми волосами и постилась бы в среду, а в субботу ела мясо; вместе с тем, у себя дома Димитрий предоставлял ей исполнять как угодно обязанности благочестия. Требование это очень не нравилось римско-католическому духовенству. Собственно, Димитрий требовал совсем противное тому, чего желали папа и католические духовные, т. е. он домогался, чтоб его жена в глазах всего русского народа присоединилась к православию. Что касается до позволения выражать как угодно у себя благочестие, то это не показывало в нем особого расположения к распространению католичества: то была свобода совести, которую он проповедовал всем своим подданным. Требование насчет исполнения православных обрядов пришло в такое время, когда папа заботился о том, чтобы сделать Марину своим орудием, и написал ей письмо, в котором, поздравляя с обручением, выражался так: "Теперь-то мы ожидаем от твоего величества всего того, чего можно ждать от благородной женщины, согретой ревностью к Богу. Ты, вместе с возлюбленным сыном нашим, супругом твоим, должна всеми силами стараться, чтобы богослужение католической религии и учение Св. апостольской церкви были приняты вашими подданными и водворены в вашем государстве прочно и незыблемо. Вот твое первое и главнейшее дело". Папский нунций в Польше, Рангони, на требование Димитрия отвечал, что он не может исполнить желания царя относительно его невесты, что это требует власти больше той, какою облечен нунций, убеждал оставить свои домогательства и устранить все затруднения силою своей самодержавной власти. Римский двор, получивши известие о требовании Димитрия, догадался, что московский царь обращается совсем не в ту сторону, куда надеялись направить его отцы иезуиты; там нашли недозволительным, чтобы Марина соблюдала обряды греческой церкви, и кардинал Боргезе писал к папскому нунцию в Польше: "Пусть Марина остается непременно при обрядах латинской церкви, иначе Димитрий будет находить новое оправдание своему упорству". Весьма может быть, что замедление приезда Марины в Москву зависело, между прочим, от недоразумений, возникших по этому религиозному вопросу. Обе стороны, не сошедшись между собою, решились на хитрости: Димитрий надеялся, что его жена, живучи в Москве, свыкнется с необходимостью делать уступки народным обычаям, а католическая пропаганда отпускала Марину в Москву, надеясь, что она силою женской прелести сумеет все переделать сообразно папским видам. Марина, со множеством сопровождавших ее лиц, переехала границу 8 апреля. Паны ехали не на короткое время и надеялись попировать на славу. Мнишек вез за собою одного венгерского несколько десятков бочек. Тысячи московских людей устраивали для них мосты и гати. Везде на московской земле встречали Марину священники с образами, народ с хлебом-солью и дарами. Мнишек с роднею несколькими днями ранее ее прибыл в Москву. Нареченная царица ехала за ним медленно и, приблизившись к Москве, остановилась в заранее приготовленных для нее шатрах. Здесь московские гости и купцы приносили ей поклоны и подносили подарки. 3-го мая Марина самым пышным образом въехала в столицу. Народ в огромном стечении приветствовал свою будущую государыню. Посреди множества карет, ехавших впереди и сзади и нагруженных панами и паньями, ехала будущая царица, в красной карете с серебряными накладками и позолоченными колесами, обитой внутри красным бархатом, сидя на подушке, унизанной жемчугом, одетая в белое атласное платье, вся осыпанная драгоценными каменьями. Звон колоколов, гром пушечных выстрелов, звуки польской музыки, восклицания, раздававшиеся разом и по-великорусски, и по-малорусски, и по-польски, сливались между собою. Едва ли еще когда-нибудь Москва принимала такой шумный праздничный вид. Молодая царица, въезжая в ворота Кремля, казалось, приносила с собою залог великой и счастливой будущности, мира, прочного союза для взаимной безопасности славянских народов, роскошные надежды славы и побед над врагами христианства и образованности. Но то был день обольщения; ложь была подкладкою всего этого мишурного торжества. Марина остановилась в Вознесенском монастыре у матери царя, принявшей невестку, как говорят, радушно. Но тяжела показалась польке обстановка русского почета. Марина с первого раза не сумела переломить себя настолько, чтобы скрыть неуважение к русским обычаям. Прискорбно ей было, что ее лишали возможности слушать католическую обедню; ее тяготило то, что она должна была жить в схизматическом монастыре, а народ, не допускавший сомнения в приверженности своего царя к отеческой вере, думал и говорил тогда, что царскую невесту для того и поместили в монастыре, чтоб познакомить с обрядами православной церкви, к которой она присоединится. Шляхтянки, окружавшие Марину, подняли вопль, побежали к панье сохачевской Старостине слушать обедню, которую отправлял приехавший с этою паньею ксендз в ее помещении, и Димитрий должен был утешать этих женщин, обещая им скорое возвращение на родину. Когда Марине принесли кушанье - она объявила, что не может сносить московской кухни, и царь прислал к ней польского повара. Царь угощал у себя родственников невесты, а невеста должна была из приличия сидеть в монастыре, но чтоб ей не было скучно, царь послал ей для развлечения польских музыкантов и песенников, не обращая внимания, что русские соблазнялись: неслыханное для них было явление - песни и музыка в святой обители; и Димитрий и Марина отнеслись к этому с достойным друг друга легкомыслием. Не только песнями и музыкой забавлял Димитрий свою будущую подругу: он прислал ей для развлечения еще шкатулку, в которой было много драгоценностей, говорят даже, будто ценность их простиралась до 500000 р. Марина могла утешаться, пересматривая их и примеривая к себе то, что служило для женского украшения. Ее родитель, не знавший границ любви своей к деньгам, в то же время для своего утешения получил также сто тысяч злотых. Между тем у духовенства поднялся вопрос: следует ли допустить к бракосочетанию Марину католичку или необходимо крестить ее в православную веру как нехристианку? Царь, верный своему всегдашнему взгляду, что все христианские религии равны и следует предоставить веру внутренней совести каждого, требовал от своей жены только наружного исполнения обрядов и уважения к церкви; патриарх Игнатий потакал ему; но поднялся тогда казанский митрополит Гермоген и коломенский епископ Иосаф, оба суровые ревнители православия, оба ненавистники всего иноземного. Димитрий выпроводил Гермогена в его епархию. В четверг 8 мая назначен был день свадьбы. По русскому обычаю не венчались накануне постных дней; правда, это собственно не составляло церковного правила, а только благочестивый обычай: царь не хотел оказывать уважения к обычаям. С приездом Марины Димитрием чересчур овладело польское легкомыслие. Свадьба устроена была по заветному прадедовскому чину с караваями, с тысячским, с дружками, со свахами. Марина, не любившая русской одежды, должна была на этот раз переломить себя и явилась в столовую избу в русском бархатном платье с длинными рукавами, усаженном дорогими каменьями и жемчугом до того густо, что трудно было распознать цвет материи; она была обута в сафьянные сапоги; голова у ней была убрана по-польски, повязкою, переплетенной с волосами. После обычных церемоний новобрачные со свадебным поездом отправились в Успенский собор; пришлось целовать иконы; польки, к соблазну православных, целовали изображения святых в уста. Прежде венчания царь изъявил желание, чтоб его супруга была коронована. Неизвестно: было ли это желание самого царя из любви к своей невесте или же, что вероятнее, следствие честолюбия Марины и ее родителя, видевших в этом обряде ручательство в силе титула: если Марина приобретет его не по бракосочетанию с царем, подобно многим царицам, из которых уже не одну цари спроваживали, по ненадобности, в монастырь, а вступит в брак с царем уже со званием московской царицы. После коронования Марина была помазана на царство и причастилась Св. Тайн. Принятие Св. Тайн по обряду восточной церкви уже делало ее православною: так думал царь и с ним те русские, которые, отрешаясь от строгих взглядов, были снисходительнее к иноверию; но в глазах таких, для которых католики были в равной степени погаными, как жиды и язычники, это было оскорбление святыни. Совершилось венчание. Ксендз проговорил в Успенском соборе проповедь или речь: она тем более была неуместною, что произносилась на латинском языке, ни для кого из русских непонятном. Свадьба, однако, как началась, так и окончилась во дворце по всем правилам русского свадебного чина. Потекли веселые дни пиров и праздников. Марина, по требованию царя, хотя и являлась в русском платье, когда принимала поздравления от русских людей, но предпочитала польское, и сам царь одевался по-польски, когда веселился и танцевал со своими гостями. Марину пленял ряд готовившихся удовольствий. В воскресенье готовился маскарад с великолепным освещением дворцов, а за городом устраивали примерную крепость, которую царь прикажет одним брать приступом, а другим защищать. Поляки затевали рыцарский турнир в честь новобрачной четы. Много иных веселых планов представлялось для суетной и избалованной судьбою Марины. Но вместо ожидаемых празднеств и забав настало 16 мая. Разбуженная набатным звоном, не нашедши подле себя супруга, царица наскоро надела юбку и с растрепанными волосами бросилась из своих комнат, сбежала в нижние покои каменного дворца и хотела было укрыться в закоулке. Но ее уши поражали звон набата, треск выстрелов, неистовые крики. Марина выскочила из своего убежища, поднялась опять на лестницу; тут встретили ее заговорщики, искавшие царя, убежавшего из деревянного дворца. Ее не узнали и только столкнули с лестницы. Она вбежала в свои покои, к своим придворным дамам. Толпа московских людей бросилась туда с намерением найти ненавистную еретичку. Из мужчин был один только юноша, паж Марины Осмольский. Двери заперли. Осмольский стал с саблею в руке и говорил, что убийцы только по его трупу доберутся до царицы. Двери разломали. Осмольский пал под выстрелами; тело его изрубили в куски. Испуганные польки сбились в кружок. Если Шуйский, для пополнения своих соумышленников, выпустил из тюрем преступников, то неудивительно, что ворвавшиеся к женщинам москвичи начали прежде всего отпускать непристойные выходки и с площадною бранью спрашивали, где царь и где его еретичка царица. Бедная Марина, как рассказывают, будучи небольшого роста, спряталась под юбкою своей охмистрины. К счастью, прибежали бояре и разогнали неистовую толпу. С тех пор Марина оставалась во дворце до среды будущей недели; к ней приставили стражу. Шуйский был внимателен к ней: зная, что она не любит московского кушанья, приказал носить ей кушанье от отца. Ее собственный повар был умерщвлен. В среду пришли к ней московские люди от бояр и сказали: "Муж твой, Гришка Отрепьев, вор, изменник и прелестник, обманул нас всех, назвавшись Димитрием, а ты знала его в Польше и вышла за него замуж, тебе ведомо было, что он вор, а не прямой царевич. За это отдай все и вороти, что вор тебе в Польшу пересылал и в Москве давал". Марина указала им на свои драгоценности и сказала: "Вот мои ожерелья, камни, жемчуг, цепи, браслеты... все возьмите, оставьте мне только ночное платье, в чем бы я могла уйти к отцу. Я готова вам заплатить и за то, что проела у вас с моими людьми". "Мы за проесть ничего не берем, - сказали москвичи, - но вороти нам те 55000 руб., что вор переслал тебе в Польшу". "Я истратила на путешествие сюда не только то, что мне присылали, но еще и много своего, чтоб честнее было вашему царю и вашему государству. У меня более ничего нет. Отпустите меня на свободу с отцом; мы вышлем вам все, что требуется". В то же время у Мнишка забрали десять тысяч рублей деньгами, кареты, лошадей и вино, которое он привез с собою. Марину, обобранную дочиста, отослали к отцу, а на другой день прислали ей, как будто на посмеяние, пустые сундуки. К отцу и дочери приставили стражу. Итак, недавнее царственное величие, радость родных, поклонение подданных, пышность двора, богатство нарядов, надежды тщеславия - все исчезло! Из венчанной повелительницы народа, так недавно еще встречавшего ее с восторгом, она стала невольницею; честное имя супруги великого монарха заменилось позорным именем вдовы обманщика, соучастницы его преступления. Часть поляков отпущена была домой, но знатные паны со своею ассистенцией оставлены под стражею. Новый царь задержал также и польских послов, а в Польшу отправил своих. Он опасался, что Сигизмунд начнет мстить за резню, произведенную в Москве над поляками; царь хотел, до поры до времени, удержать в своих руках заложниками и послов с их свитами, и свадебных гостей низверженного царя, и его супругу с тестем. Марина с отцом помещены были в доме, принадлежавшем дьяку Афанасию Власьеву, которого новый царь сослал за верную службу Димитрию, приказав, как велось, все его имущество отписать на себя. Между тем на Шуйского готовился идти другой Димитрий. Михайло Молчанов, убежавши из Москвы, прибыл в Самбор и в соумышлении с женою Мнишка начал приискивать нового самозванца. Ему самому сначала хотелось разыгрывать Димитрия, но наружность его чересчур не подходила к этой роли; он мог сказаться только Димитрием перед Болотниковым, русским пленником, возвращавшимся в отечество, никогда не видавшим прежнего названого Димитрия. Он поручил ему собирать против Шуйского силы русского народа, уверяя всех и каждого, что Димитрий спасся от смерти в Москве и явится снова отнимать свой престол у похитителя. Шуйскому показалось опасным оставлять поляков в Москве. В столице стали появляться подметные письма, извещавшие, что Димитрий 2 жив. Не все могли удостовериться собственными глазами, что прежний царь был убит: труп его, выставленный на Красной площади, был до такой степени обезображен, что нельзя было распознать в нем черт человеческого лица. Начали ходить толки о том, что выставленный труп совсем не был трупом царя. Шуйский боялся мятежа: тогда поляков могли освободить. Он рассудил за благо отправить их подальше и в августе 1606 года разослал по разным городам. Марину с отцом, братом, дядею и племянником Мнишка послали в Ярославль. Там они пребывали под стражею до июня 1608 года. Между тем совершились важные перевороты. Болотников именем спасшегося в другой раз от смерти Димитрия успел поднять на ноги русский народ; Шуйский едва-едва удержался, но Димитрий, которого все ждали, не явился; народ, утомившись ожиданием, оставил Болотникова; Шуйский, после упорной борьбы, уничтожил его. Но вдруг новый названый Димитрий явился в Стародубе. Об его личности сохранились до крайности противоречивые известия. По всему видно, он был только жалким орудием партии польских панов, решившейся во что бы ни стало произвести смуту в Московском государстве. Здесь несомненно участие жены Мнишка, мстившей за плен своего мужа. Рассказывают, что самозванец, вышедший из литовских владений в Московское государство, по внушению агента жены Мнишка, Меховецкого, не решился сразу назвать себя царем, а назвался дядею Димитрия Нагим. Пришедши в Стародуб, вместе с подьячим Алексеем Рукиным, он объявлял, что сам он Нагой, а за ним идет Димитрий с паном Меховецким. Рукин отправился в Путивль и там объявлял, что Димитрий уже в Стародубе. Путивльцы с ним отправились в Стародуб, приступили к названому Нагому, спрашивали: "Где Димитрий?" Мнимый Нагой отвечал: "Не знаю". Тогда путивльцы вместе со стародубцами напали на Рукина за то, что он ложно сказал, будто Димитрий в Стародубе, стали бить его кнутом, приговаривая: "Говори, где Димитрий?" Рукин, не стерпя муки, указал на того, кто назвался Нагим, и сказал: "Вот Димитрий Иванович, он стоит перед вами и смотрит, как вы меня мучите. Он вам не объявил о себе сразу, потому что не знал, рады ли вы будете его приходу". Новопоказанному Димитрию не оставалось ничего, как только назваться Димитрием или подвергнуться пытке. Он принял повелительный вид, грозно махнул палкою и закричал: "Ах вы сякие дети, я государь!" Стародубцы и путивльцы упали к его ногам и закричали: "Виноваты, государь, не узнали тебя; помилуй нас. Рады служить тебе и живот свой положить за тебя". С тех пор он остался Димитрием. Немедленно к нему стеклось до трех тысяч русских с северской земли. Пришел выславший его, Меховецкий, с отрядом украинской вольницы, дожидавшийся на границе, что станется с самозванцем, когда он объявит о себе русским. Потом пристал к нему донской атаман Заруцкий, родом из Червоной Руси, отправленный Болотниковым искать Димитрия. Меховецкий разослал в Польшу письма и извещал, что Димитрий явился, что пришла для поляков пора военной славы и мщения за убитых в Москве. По этим письмам один за другим прибыли к самозванцу паны: Адам Вишневецкий, Хруслинский, Хмелевский, Валавский, Самуил Тишкевич и самый сильный, князь Роман Рожинский. У всех их было по значительному отряду вольницы, человек до тысячи в каждом, а у Рожинского более четырех тысяч; кроме того, князь Рожинский был человек с весом, и его войско увеличивалось с каждым днем новыми пришельцами. Тут были преступники, так называемые "банниты", осужденные за разные своевольства и избегавшие законной казни, проигравшиеся и пропившиеся шляхтичи, которым, ради насущного хлеба, надобно было приняться за какое-нибудь ремесло, а, по тогдашним польским понятиям, только военное ремесло и было достойно шляхетского звания. Были здесь и неоплатные должники, бежавшие от заимодавцев, наконец, были такие молодцы, для которых было все равно в какую бы сторону ни отправиться, лишь бы весело пожить; а, по их понятиям, весело пожить значило грабить, разорять и вообще делать кому-нибудь вред. Польская вольность произвела чрезвычайное множество таких, о чем свидетельствуют и современные акты и горькие жалобы польских моралистов. Все это бросилось в московскую землю под знамя новоотысканного Димитрия. Никто не верил, чтоб он был настоящим. Князь Рожинский отстранил Меховецкого, принял звание гетмана и начал так помыкать названым царем, что последний два раза хотел убежать от чести называться царем, но его возвращали и принуждали снова играть взятую роль. В третий раз в отчаянии он начал пить водку, которой он прежде не пил, хотел допиться до смерти; но это ему не удалось, и он решился предаться своему жребию. Дела нового самозванца пошли успешно. Весть о том, что Димитрий жив, быстро разносилась по Руси. Поляки с ним двинулись - и города сдавались за городом. Взяты были Карачев, Брянск, Орел. Отсюда, остановившись, самозванец разослал грамоту, в которой убеждал русский народ - с одной стороны, отступиться от Шуйского, а с другой, не верить царевичам, которые тогда появлялись один за другим в разных местах. "Ведомо нам учинилось, - писал он, - что, грех ради наших и всего Московского государства, объявилось в нем еретичество великое: вражьим наветом, злокозненным умыслом, многие стали называться царевичами московскими". Он приказывал таких царевичей ловить, бить кнутом и сажать в тюрьму до царского указа. Выступивши весною из Орла, самозванец со своею шайкою разбил войско Шуйского под Волховом и беспрепятственно шел до самой Москвы. Первого июня он прибыл к Москве, а на другой день поляки заложили лагерь в восьми верстах от Москвы, в селе Тушине, между Москвою-рекою и впадавшею в нее рекою Всходнею 3. С тех пор каждый день шайка увеличивалась и поляками, и русскими. Пришли к самозванцу паны: Млоцкий, Александр Зборовский, Выламовский, Стадницкий и отважный богатырь Ян Сапега, племянник канцлера Льва, осужденный в отечестве за буйство. Все они привели с собою отряды вольницы, под названием гусар и казаков. Толпы русских стекались в Тушино; приехали к самозванцу с поклоном и люди знатного рода: стольник князь Димитрий Тимофеевич Трубецкой, князь Димитрий Черкасский, князь Алексей Сицкий, князь Василий Мосальский, князья Засекины и другие. Люди, чувствовавшие за собою мало значения в государстве Шуйского, желая подняться в чинах, увидели возможность возвышения, примкнувши к иному государю. Города за городами стали отпадать от Шуйского и провозгласили царем спасенного Димитрия; сторонники Шуйского прозвали его Тушинским вором, и это имя осталось за ним в истории. В это время Шуйский, после двухлетних недоразумений и споров, заключил с польскими послами перемирие на три года и одиннадцать месяцев. По этому перемирию, всех задержанных поляков следовало отпустить и дать все нужное до границы. Марину с семьею привезли в Москву. Она должна была отказаться от титула московской царицы, а Мнишек дал обязательство не называть вора зятем. Так как затруднительно было ехать прямо на Смоленск, то их повезли в Углич, оттуда на Тверь, а из Твери на Белую. Мнишек как-то успел дать знать в Тушино, что они едут в Польшу, с тем, чтоб их перехватили на дороге. Провожал их князь Владимир Долгорукий с тысячью ратных людей. Рожинский из тушинского лагеря послал в погоню отряд под начальством Зборовского; с ними поехали и русские люди под начальством Мосальского. Так как поляки, наверно, не знали, согласится ли Марина признать обманщика за прежнего мужа, то отправили погоню только для того, чтоб русские повсюду узнали, что царь посылает за женою. На самом же деле они не желали, чтоб она была захвачена. Но Мнишек нарочно ехал медленно, так что 16 августа его нагнали под деревнею Любеницами, уже недалеко от границы. Провожатые разбежались. Марина, страшась за неизвестность своей судьбы, отдалась под защиту Яна Сапеги, который с 7000 удальцов шел к Тушину; Сапега уверил Марину, что муж ее действительно спасся, и повез ее с собою. Марина не видала трупа названого царя Димитрия, поверила и так была рада, что, едучи в карете, веселилась и пела. Тогда к ней подъехал князь Мосальский и сказал: "Вы, Марина Юрьевна, песенки распеваете, оно бы кстати было, если бы вы в Тушине нашли вашего мужа; на беду, там уже не тот Димитрий, а другой". Марина стала вопить и плакать. Князь Мосальский, страшась за это мщения от поляков, бежал с дороги к Шуйскому. Марину 1 сентября привезли против воли в Тушино. Рожинский явился к ней и пригласил в обоз. Марина кричала, что не поедет ни за что. Везти ее насильно оказывалось неудобным, потому что нужно было, чтобы все видели нежную радость супругов при свидании. Пять дней уговаривал Марину Сапега: она не поддавалась. Но Мнишек вместе с Рожинским и Зборовским отправился к вору, и тот обещал ему 300000 руб. и северскую землю с четырнадцатью городами. Мнишек продал свою дочь. Вор на другой день приехал к Марине. Марина отвернулась от него с омерзением. Паны принуждены были приставить к ней стражу. Но при помощи нежного родителя наконец уговорили Марину. К этому присоединились убеждения какого-то иезуита, который уверял, что с ее стороны это будет высокий подвиг в пользу церкви. Марина согласилась играть комедию с условием, что называвший себя Димитрием не будет жить с нею как с женою, пока не овладеет московским престолом. Замечательно, что польский посол Олесницкий, также захваченный на дороге и привезенный в тушинский лагерь, ездил с вором в одной коляске к Марине и, вероятно, уговаривал ее играть позорную комедию, а при отъезде получил от вора грамоту на владение городом Белою. На другой день Сапега с распущенными знаменами повез Марину в воровской табор; и там, посреди многочисленного войска, мнимые супруги бросились друг другу в объятия и благодарили Бога за то, что дал им соединиться вновь. Мнишек пробыл в таборе вора около четырех месяцев и потом уехал в Польшу. Между Мнишком и дочерью возникли холодные отношения. Мнишек сносился с вором, а дочери не писал. В январе 1609 года Марина писала к отцу: "Я нахожусь в печали как по причине вашего отъезда, так и потому, что простилась с вами не так, как хотелось; я надеялась услышать из уст ваших благословение, но, видно, я того недостойна. Слезно и умиленно прошу вас, если я когда-нибудь по неосторожности, по глупости, по молодости или по горячности оскорбила вас, простите меня и пошлите дочери вашей благословение... Как будете писать его царской милости, упомяните и обо мне, чтоб он оказывал мне любовь и уважение, а я обещаю вам исполнить все, что вы мне поручили, и вести себя так, как вы мне повелели". Но ответа не получила Марина. Она просила у отца черного бархата на платье. Ответа не было. Вскоре и вор начал жаловаться, что Мнишек ему не пишет. В марте того же года Марина писала к отцу и жаловалась, что с нею поступают не так, как было обещано при отъезде Мнишка, припоминала, как отец ее вместе с нею кушал вкусных лососей и пил старое вино, скорбила о том, что в Тушине нет ни того, ни другого, и просила прислать. Отец не отвечал. Наконец, в августе она опять писала ему, жаловалась, что, несмотря на множество писем, не получала никакого ответа и только от чужих узнавала о родителях. Видно, Мнишек сообразил, что дело тушинского вора в Польше не может обратиться в его пользу, так как Сигизмунд не намерен был поддерживать самозванца, а затевал сам овладеть Московским государством; поэтому сендомирский воевода играл роль, будто не участвует в обмане, не одобряет поступков дочери и оставил ее на произвол судьбы. Признание Мариною нового Димитрия своим мужем сильно подняло его сторону. Русские города с землями один за другим признавали его. Южные области, кроме Рязани, уже прежде были за него; после того как разошлась весть о соединении его с Мариною, сдались ему: Псков, Иван-Город, Орешек, Переяславль-Залесский, Суздаль, Углич, Ростов, Ярославль, Тверь, Бежецкий Верх, Юрьев, Кашин, Торжок, Белоозеро, Вологда, Владимир, Шуя, Балахна, Лух, Гороховец, Арзамас, Романов и другие. Новгород едва держался; Нижний и Смоленск стояли за Шуйского, но мордва беспокоила Нижний, и многие из этого города бежали к Димитрию. Сапега осаждал Троицу, но не мог взять, несмотря ни на какие усилия. В таком положении были дела вора несколько месяцев. Тушинский лагерь беспрестанно наполнялся и поляками и русскими. В нем было до 18000 конных и 2000 пеших поляков, более 40000 разных казаков: и запорожских, и донских, и неопределенное число московских людей. Сами предводители не знали, сколько их было, потому что одни убывали, другие прибывали. Польское войско у Димитрия состояло из сбродных команд, составленных на свой счет панами или же образовавшихся в виде товариществ; во всякой команде были правила, и все присягали повиноваться предводителю; кроме того, в обозе было множество всякого рода слуг. Поляки надевали на голову железный шишак, на теле, сверх жупана, большею частью белого цвета, носили сетку из плетеной проволоки или из железных колец, а ин |
ПЕРЕВОРОТ ЕЛИЗАВЕТЫ I ПЕТРОВНЫ 
Россия. 1741 год
Глухой ночью 25 ноября 1741 года цесаревна Елизавета Петровна совершила государственный переворот, арестовав младенца‑императора Ивана VI Антоновича и его родителей — принца Антона Ульриха Брауншвейгского и Анну Леопольдовну. Переворот этот не был ни для кого неожиданностью — слухи о нем расходились по столице и стали достоянием правительства. Елизавета, дочь Петра I и бывшей лифляндской крестьянки Марты Скав‑ронской (после перехода в православие Екатерины Алексеевны), родилась 18 декабря 1709 года. Брачные отношения Петра I и Екатерины в момент рождения Елизаветы еще не были официально оформлены, что впоследствии повлияло на судьбу Елизаветы. В августе 1721 года Петр I принял императорский титул, после чего Анна и Елизавета стали именоваться «цесаревнами». Этот титул отделял детей императора от других членов дома Романовых. Петр, сын казненного царевича Алексея, назывался великим князем, а племянница Анна Иоанновна царевной. После неожиданной смерти Петра II в 1730 году Елизавета оказалась законной наследницей престола, поскольку ее сестра Анна отреклась за себя и своих потомков от прав на российскую корону. Однако Верховный тайный совет, признав Елизавету незаконнорожденной, отказал ей в правах на престол, решив «пригласить на царство» Анну Иоанновну. После смерти этой правительницы в 1740 году трон наследовал ее двухмесячный внучатый племянник Иван Антонович. В результате заговора фельдмаршала Миниха реальная власть перешла к Анне Леопольдовне, племяннице Анны Ивановны и матери Ивана Антоновича. Новая правительница относилась к Елизавете с симпатией, но та вряд ли платила ей взаимностью. Вероятно, мысль о вступлении на престол уже не покидала цесаревну, которая, по замечанию английского посла, была уже в то время «очень популярна и сама по себе, и в качестве дочери Петра Первого, память которого становилась все дороже и дороже русскому народу». Государственный переворот Елизаветы Петровны имел важную особенность: как никогда раньше, в нем было заметно участие иностранных держав. Прибывший в Петербург в декабре 1739 года французский посол Иоахим Жан Тротти маркиз де ла‑Шетарди имел секретную инструкцию, в которой ему предписывалось разыскивать тайных сторонников Елизаветы. В Версале надеялись путем переворота изменить внешнеполитическую ориентацию России, находившейся в союзе с враждебными Франции Англией и Австрией. Дипломат имел конкретное задание: разрушить русско‑австрийский союз 1726 года. Добиться этого можно было лишь путем смены проавстрийского правительства Анны Леопольдовны. Ту же цель ставил перед собой и шведский посланник Эрик Матиас Ноль‑кен. В Стокгольме, где были очень сильны реваншистские настроения, надеялись, что при ослаблении власти в России и при первом волнении в Петербурге можно добиться пересмотра Ниш‑тадтского мира 1721 года и возвращения Швеции Восточной Прибалтики. Нолькен и Шетарди начали искать те силы, которые были бы в состоянии свергнуть правительство Анны Леопольдовны. И вот осенью 1740 года Нолькен предложил Елизавете простой и ясный план: цесаревна подписывает обращение‑обязательство к шведскому королю с просьбой помочь ей взойти на престол, король начинает войну против России, наступает на Петербург и тем самым облегчает переворот в пользу Елизаветы. Для исполнения плана он дает ей сто тысяч экю, а она обещает, в случае успеха предприятия, удовлетворить все территориальные претензии Швеции. Цесаревна просила выдать ей деньги, в которых она очень нуждалась, Нолькен же настаивал на обратном варианте — сначала письменное обязательство, а потом деньги. Блистательный и высокомерный, французский посланник маркиз де ла‑Шетарди также вел долгие переговоры с цесаревной и ее доверенным лицом лейб‑медиком Лестоком в надежде использовать внутреннюю борьбу в России на пользу Франции и ее союзнице Швеции. Он передал Елизавете скромную сумму в две тысячи дукатов. Сумма была незначительна, но все же несколько облегчила финансовые трудности цесаревны. В тайных переговорах с иностранными дипломатами Елизавета соглашалась принять помощь Швеции, но все попытки Нолькена и Шетарди получить подписанный ею документ с гарантией территориальных уступок не увенчались успехом. П.И. Панин отмечал впоследствии, что «Елисавета не согласилась дать письменного обещания, отзываясь, что крайне опасно излагать на бумаге столь важную тайну, и настояла, дабы во всем положились на слово ее. Последствия показали, что Елисавета Петровна перехитрила лукавого француза и ослепила шведов». В Стокгольме решили действовать, не дожидаясь от Нолькена подписанных цесаревной бумаг. В июле 1741 года Швеция начала войну против России в Финляндии, указав в качестве одной из ее причин «устранение царевны Елизаветы и герцога Голштинского (сына Анны Петровны) от русского престола и власть, которую иностранцы захватили над русской нацией» В планы шведской правящей верхушки входило отторжение Петербурга и завоевание северных земель России вплоть до Архангельска. Но этим планам не суждено было осуществиться: 23 августа 1741 года Швеция потерпела сокрушительное поражение под Вильманстрандом. В период тяжелого для народа царствования Анны Иоанновны широкие слои русского общества утвердились во мнении, что все беды происходят от захвата власти «иноземцами». Но если сама императрица была русской, то полунемка Анна Леопольдовна со своим супругом принцем Антоном Ульри‑хом Брауншвейгским являлись в глазах народа иностранцами, несправедливо правящими Россией от имени младенца‑императора. Массовые симпатии оказались на стороне Елизаветы, «русской сердцем и по обычаям». Центром движения в пользу дочери Петра I стали казармы гвардейского Преображенского полка. Немало потрудилась для завоевания симпатий гвардейцев и сама цесаревна Она часто проводила время в казармах «без этикета и церемоний», одаривала гвардейцев деньгами и крестила их детей. Солдаты не называли ее иначе, как «матушка». В 1737 году правительство Анны Иоанновны казнило прапорщика Преображенского полка А. Барятинского за намерение поднять «человек с триста друзей» ради Елизаветы. В 1740 году гвардейцы, арестовывавшие Бирона, судя по признаниям Миниха, ожидали, что власть перейдет именно к Елизавете. Для них дочь Петра превратилась в символ национальной государственности, противопоставляемой засилью «немцев». Гвардия настроилась на решительные действия. В июне 1741 года несколько гвардейцев встретили Елизавету в Летнем саду и сказали ей: «Матушка, мы все готовы и только Ждем твоих приказаний». В ответ они услышали: «Разойдитесь, ведите себя смирно: минута действовать еще не наступила. Я вас велю предупредить». Нити заговора не распространялись в сердце высшего общества, и круг сторонников Елизаветы ограничивался в основном «кавалерами» ее двора. В подготовке переворота участвовали И.Г. Лесток, Разумовские, а также братья А.И. и П.И. Шуваловы и М.И. Воронцов. Руководителями заговора являлись Лесток и сама Елизавета. Великую княгиню Анну Леопольдовну, а также ее министров неоднократно предупреждали о честолюбивых намерениях Елизаветы. Об этом доносили шпионы, писали дипломаты из разных стран Но больше всего первого министра А.И Остермана встревожило письмо, пришедшее из Силезии, из Бреслав‑ля. Хорошо информированный агент сообщал, что заговор Елизаветы окончательно оформился и близок к осуществлению, необходимо немедленно арестовать лейб‑медика цесаревны Лестока, в руках которого сосредоточены все нити заговора. Анна Леопольдовна не послушалась тех, кто советовал задержать Лестока. На ближайшем куртаге при дворе 23 ноября 1741 года, прервав карточную игру, правительница встала из‑за стола и пригласила тетушку в соседний покой. Держа в руках бреславское письмо, она попыталась приструнить Елизавету посемейному. Когда обе дамы вновь вышли к гостям, они были весьма взволнованы, что тотчас отметили присутствовавшие на куртаге дипломаты. Вскоре Елизавета уехала домой. Как писал в своих «Записках» генерал К.Г. Манштейн, «цесаревна прекрасно выдержала этот разговор, она уверяла великую княгиню, что никогда не имела в мыслях предпринять что‑либо против нее или против ее сына, что она была слишком религиозна, чтобы нарушить данную ей присягу, и что все эти известия сообщены ее врагами, желавшими сделать ее несчастливой ..» Вернувшись домой, Елизавета собрала своих сторонников на совещание, на котором было решено произвести переворот вечером следующего дня. Предусмотрительность этого шага подтвердилась, поскольку на другой день гвардейские полки получили приказ выступить из Петербурга на войну со шведами. 24 ноября 1741 года, в 23 часа, Елизавета получила сообщение, что гвардейцы готовы поддержать ее «революцию» Лесток послал двух наблюдателей к Остерману и Миниху разузнать, не забили ли там тревоги. Ничего подозрительного они не заметили. Сам Лесток отправился в Зимний дворец. Вернувшись к Елизавете, Лесток нашел ее молящейся перед иконой Богоматери. Впоследствии было высказано предположение, что именно в эту минуту она дала обет отменить смертную казнь, в случае удачи опасного предприятия. В соседней комнате собрались все ее приближенные Разумовские, Петр, Александр и Иван Шуваловы, Михаил Воронцов, принц Гессен‑Гомбургский с женой и родные цесаревны: Василий Салтыков, дядя Анны Иоанновны, Скав‑ронские, Ефимовские и Гендриковы. Цесаревна надела кавалерийскую кирасу, села в сани и по темным и заснеженным улицам столицы поехала в казармы Преображенского полка. Там она обратилась к своим приверженцам: «Други мои! Как вы служили отцу моему, то при нынешнем случае и мне послужите верностью вашею!» Гвардейцы отвечали: «Матушка, мы готовы, мы их всех убьем». Елизавета возразила: «Если вы хотите поступать таким образом, то я не пойду с вами». Понимая, что ненависть ее сторонников обращена против иностранцев, она сразу же объявила, что «берет всех этих иноземцев под свое особое покровительство». Гренадеры были давно подготовлены к «революции» Елизаветы. Предварительные разговоры, намеки доверенных цесаревны, деньги и обещания, которые они щедро раздавали, сделали свое дело наилучшим образом. Выйдя из саней на Адмиралтейской площади, Елизавета в сопровождении трехсот солдат направилась к Зимнему дворцу Солдаты нервничали, спешили, цесаревна с трудом шла по снегу Вот тогда‑то гренадеры подхватили ее на свои широкие плечи и внесли в Зимний дворец. Все входы и выходы тут же были перекрыты, караул сразу же перешел на сторону мятежников. Гренадеры устремились в императорские апартаменты на втором этаже. Солдаты разбудили и арестовали Анну Леопольдовну и ее мужа Антона Ульриха Шетарди в своем донесении во Францию отмечал: «Найдя великую княгиню правительницу в постели и фрейлину Менгден, лежавшую около нее, принцесса [Елизавета] объявила первой об аресте. Великая княгиня тотчас подчинилась ее повелениям и стала заклинать ее не причинять насилия ни ей с семейством, ни фрейлине Менгден, которую она очень желала сохранить при себе Новая императрица обещала ей это» Миних, которого примерно в те же минуты невежливо разбудили и даже побили мятежники, писал, что, ворвавшись в спальню правительницы, Елизавета произнесла банальную фразу: «Сестрица, пора вставать!» Кроме этих версий есть и другие. Авторы их считают, что, заняв дворец, Елизавета послала Лестока и Воронцова с солдатами на «штурм» спальни правительницы и сама при аресте племянницы не присутствовала. Анна Леопольдовна с Антоном Ульрихом спустились из апартаментов на улицу, сели в приготовленные для них сани и позволили увезти себя из Зимнего дворца. Не все прошло гладко при «аресте» годовалого императора Солдатам был дан строгий приказ не поднимать шума и взять ребенка только тогда, когда он проснется. Около часа они молча простояли у колыбели, пока мальчик не открыл глаза и не закричал от страха при виде гренадеров. Кроме того, в суматохе сборов в спальне уронили на пол четырехмесячную сестру императора, принцессу Екатерину. Как выяснилось впоследствии, от этого удара она оглохла. Императора Ивана Антоновича принесли Елизавете, и она, взяв его на руки, якобы сказала— «Малютка, ты ни в чем не виноват!» Что делать с младенцем и его семьей, никто толком не знал. Так с ребенком на руках Елизавета поехала в свой дворец. Вернувшись домой, она направила во все концы города гренадер, в первую очередь в места расположения войск, откуда они привезли новой государыне полковые знамена. За всеми вельможами послали курьеров с приказанием немедленно явиться во дворец. К утру 25 ноября 1741 года были готовы форма присяги и манифест, в котором провозглашалось, что Елизавета I Петровна вступила на престол «по законному праву, по близости крови к самодержавным .. родителям». Над этими документами потрудились канцлер князь A.M. Черкасский, секретарь Бреверн и А П. Бестужев‑Рюмин. Вызванные и построенные у Зимнего дворца полки принесли присягу. Солдаты прикладывались сначала к Евангелию и кресту, потом подходили к праздничной чарке. Под приветственные крики «Виват», залпы салютов с бастионов Адмиралтейской и Петропавловской крепостей Елизавета торжественно и чинно проследовала в свою резиденцию. 28 ноября был издан второй манифест, в котором право дочери Петра I на российскую корону подкреплялось ссылкой на завещание Екатерины I Иван Антонович был объявлен незаконным государем, не имевшим «никакой уже ко всероссийскому престолу принадлежащей претензии, линии и права». Монеты с его изображением были изъяты из обращения, а множество листов с присягой на верность ему публично сожжены на площадях «при барабанном бое». УБИЙСТВО ГУСТАВА III 
Швеция. Март 1792 года
В годы правления Густава III был проведен целый ряд реформ в экономике и общественном устройстве Швеции. Именно тогда, при Густаве III, была установлена государственная монополия на производство и продажу спиртных напитков, существующая в Швеции до сих пор. Были запрещены пытки и смягчено уголовное законодательство. В это же время страна стала более веротерпимой. «Густавианская эпоха» — блестящая пора в истории шведской культуры. В 1786 году Густавом III была основана знаменитая Шведская академия, та самая, которая в нашем столетии присуждает Нобелевские премии по литературе. Король покровительствовал писателям и поэтам. С детских лет Густав III был театралом, играл в любительских представлениях при дворе, а впоследствии писал пьесы и либретто для опер, ставил спектакли, набрасывал эскизы декораций и костюмов Созданный Густавом III в загородном дворце Дрот‑тнингхолм летний театр действует до сих пор. В 1773 году в Стокгольме открылась Королевская опера, а в 1788‑м— Королевский шведский драматический театр. Однако политический режим в Швеции стал довольно жестким. Необычные для Европы того времени широкие гражданские свободы, в том числе и свобода печати, существовавшие в Швеции в 1760‑х годах, были после переворота урезаны. Густав III создал и тайную полицию. На первых порах, в 1770‑е годы, Густаву еще удавалось преодолевать серьезные экономические трудности страны. Во многом этому содействовало введение новой денежной системы, основанной на серебряном риксдалере. Однако в 1780‑е годы, к концу которых король в значительной степени потерял доверие дворянства, временную поддержку оказывали лишь иностранные субсидии, главным образом французские. В 1789 году при поддержке податных сословий Густав III силой заставил созванный в Стокгольме риксдаг принять новый конституционный документ, так называемый «Акт единения и безопасности», дававший королю почти неограниченную власть, опираясь на которую Густав III продолжал искать выход из сложного экономического положения. В 1791 году он обратился к Екатерине II с предложением организовать контрреволюционную интервенцию во Францию, интриговал в Польше, обдумывал планы захвата Норвегии. Заключенный в октябре 1791 года русско‑шведский союзный договор ничего не говорил о походе против Франции, но субсидии Швеция все же получила. Однако этих денег не хватало. Нужны были глубокие преобразования, чтобы преодолеть финансовый кризис, и именно для этого Густав пошел на созыв риксдага, который, во избежание возможных эксцессов, был проведен далеко от столицы, в провинциальном городе Евле Внешне даже казалось, что Густав III достиг наконец сплочения нации Но дальнейшие события показали обратное. Вечером в пятницу 16 марта 1792 года к зданию Оперы беспрерывно подъезжали сани, откуда выпархивали коломбины и одалиски, ловко выпрыгивали халифы и флибустьеры. Вся молодежь Стокгольма стремилась попасть на бал‑маскарад, где, в отличие от официальных балов, могли присутствовать и дворяне и разночинцы. К одиннадцати часам приехал из драматического театра король. В одном из залов Оперы монарха ждал накрытый ужин, который он намеревался провести в небольшой компании своих фаворитов: гофшталмейстера Ханса Хенрика фон Эссена, нескольких молодых камер‑юнкеров и офицеров. На сей раз отсутствовал один из самых близких Густаву III людей — Густав Мориц Армфельт, приглашенный на этот вечер к датскому послу. Когда трапеза его величества подходила к концу, паж подал ему запечатанное письмо, где анонимно сообщалось, что на короля готовится покушение. На все заклинания отменить бал‑маскарад, не спускаться в зал к танцующим или, по крайней мере, надеть панцирь под одежду и выйти в окружении стражи Густав III ответил отказом Он и раньше получал подобные предупреждения, но больше всего на свете не хотел показаться трусливым. Однажды он сказал: «Если я испугаюсь, то смогу ли править?» А потому, завершив ужин, король отправился выбирать себе маскарадный костюм. Он набросил на плечи венецианский плащ из черной тафты, причем столь небрежно, что из‑под него виднелся большой крест ордена Серафимов, имевшийся только у членов королевской фамилии, надел черную шляпу с белыми перьями, к которой была пришита белая маска из ткани, закрывавшая лицо, и в сопровождении Эссена и дежурного капитана спустился в зал. Приближалась полночь Бал был в самом разгаре Народу собралось так много, что королю и его окружению приходилось протискиваться через толпу. Внезапно позади Густава III возникла фигура, одетая в маску и черное домино. Неизвестный выхватил пистолет и, присев, прицелился королю в спину А он в это время резко повернулся влево. Рука преступника дрогнула, раздался выстрел, и весь заряд попал королю чуть выше бедра. Он вскрикнул по‑французски: «Я ранен» и судорожно схватил Эссена за плечо. Растерявшийся гофшталмей‑стер помог монарху добраться до каменной скамейки у стены. Как ни странно, паники не возникло. Музыка играла так громко, что далеко не все слышали выстрел, а некоторые приняли его за хлопушку. Тем не менее охране удалось быстро перекрыть все выходы. Раненого короля перевезли во дворец, где его осмотрели лейб‑медики, попытавшиеся извлечь пулю из раны. Оказалось, что заряд злоумышленника состоял еще и из дроби и даже ржавых обойных гвоздиков. По свидетельству очевидцев, во время переезда, зондирования раны и операции монарх держался достойно. Сначала серьезных опасений ранение врачам не внушало. Целую неделю после покушения Густав III чувствовал себя относительно неплохо. Но в воскресенье 26 марта его состояние резко ухудшилось. К обострившимся болям в ране добавилась простуда — видимо, в спальне было очень холодно. Короля терзал мучительный кашель. Агония началась в ночь на 28‑е Кашель прекратился, началось сильное нагноение раны. Старый врач короля, осмотрев больного, в конце концов рекомендовал ему позвать брата и помириться с ним. Ведь по Стокгольму пошли слухи, что герцог Карл, не приехавший на тот злополучный бал, причастен к покушению. , Густав III понял, что ему предстоит. Он тут же вызвал к себе преданного статс‑секретаря Элиса Шредерхейма и велел составить дополнение к основному завещанию: власть в Швеции должна до совершеннолетия наследного принца Густава Адольфа, которому шел тогда четырнадцатый год, перейти в руки не только герцога Карла, но и правительства опекунов, куда король вводил своих ближайших фаворитов — Таубе и Армфельта. Первого он назначал министром иностранных дел, а второго — генерал‑губернатором Стокгольма. Фактически в их руки передавалась почти вся полнота власти. Через несколько часов король скончался. Герцог Карл действовал быстро и решительно. На созванном вскоре заседании временного правительства верховный судья Вахтмейстер заявил, что дополнение к завещанию не имеет юридической силы, так как по законам Швеции его должны были скрепить два свидетеля, а на нем только подписи короля и статс‑секретаря. Таким образом, власть в королевстве переходила к герцогу Карлу. Как позже выяснилось, исполнителем убийства стал отставной гвардейский капитан Якоб Юхан Анкарстрем, жизнь которого сложилась весьма неудачно. А направлял руку убийцы генерал Пеклин, в «эру свобод» влиятельный деятель риксдага, а затем один из руководителей оппозиции. Заговорщики надеялись, что покушение послужит сигналом к восстанию, которое приведет к ограничению монархии и установлению более либерального режима. Первым актом регента явилось распоряжение о суде над убийцами его брата. Преследования привели к большому количеству арестов. Но вскоре большинство захваченных было отпущено. Только Анкарстрем и некоторые из активных участников заговора предстали перед судом. Убийца приговорен был к смерти и казнен; остальные подверглись лишь незначительным наказаниям. Эта мягкость приписана была влиянию одного человека, который играл преобладающую роль в Швеции в течение последующих лет, а именно Рейтер‑хольму. Последний был личным другом герцога Седерманландского. При Густаве III ему поручали лишь не особенно важные административные обязанности. Умный, тщеславный, увлеченный либеральными идеями, заимствованными у Руссо, он получил огромное влияние на ограниченный ум регента и в сущности являлся истинным правителем страны. Так как он был из числа ожесточенных врагов покойного короля, которому он не мог простить заключения в тюрьму своего брата во время переворота 1772 года, то он начал устранять от власти сторонников Густава III, которые с этого момента стали оппозиционной партией и искали поддержки за границей, особенно у России. Вокруг этого события сложилось много легенд, одна из которых прямо связывала его с деятельностью французских якобинцев, — в ту пору открыто говорили о том, что они собираются уничтожать коронованных особ. При петербургском дворе, как вспоминал секретарь Екатерины II A.M. Грибовский, «распространился слух, что французские демагоги рассылали подобных себе злодеев для покушения на жизнь государей». Передавали, будто мэр Парижа Петион держал пари, что к 1 июня того же 1792 года Екатерины II уже не будет в живых. Однако никаких подтверждений причастности якобинцев к покушению на Густава III не было найдено ни тогда, ни после. Кроме того, герцог Карл и его окружение, придя к власти, постарались скрыть подлинные факты, из‑за чего возникла версия о том, что покушение готовила небольшая группа аристократов. Лишь в 50‑х годах нашего столетия шведский историк Андерс Ларссон, тщательно изучив ставшее доступным для исследователей многотомное уголовное дело об убийстве Густава III, сумел показать, сколь разветвленным и глубоким был заговор против короля. |
Исторический порталAladdinАдрес: Россия Санкт Петербург Гражданский пр. E-mail: Salgarys@yandex.ru |




